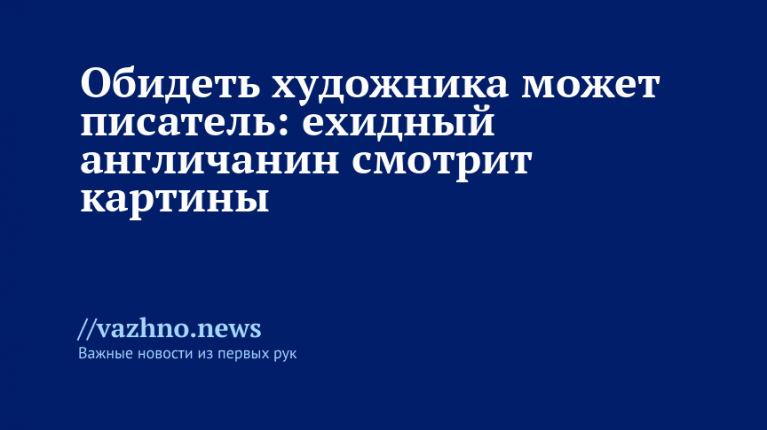Новая книга Джулиана Барнса под названием Keeping An Eye Open в переводе на русский язык получила бы подходящее шутливое название «Разуй глаза». Тем не менее издатели решили не рисковать и выбрали более официальное «Открой глаза», приглашая читателей узнать очередной набор саркастических размышлений об изобразительном искусстве, написанных британским постмодернистом и ловеласом. Критик Лидия Маслова представляет данный сборник в рубрике «Книга недели» специально для издания «Известия».
Джулиан Барнс«Открой глаза. Эссе об искусстве»СПб.: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2025. — перевод с английского В. Ахтырской, В. Бабкова, А. Борисенко и других. — 416 страниц.
В сборнике эссе Барнса о живописи первый текст — давняя работа, которую автор явно ценит особенно: художественно оформленный анализ полотна Теодора Жерико «Плот «Медузы»», впервые опубликованный в романе «История мира в 10½ главах» (1989). Это яркое начало, учитывая захватывающую трагическую историю картины. Барнс не щадит красок, оживляет образы персонажей и затем плавно переходит к размышлениям о том, как искусство передаёт катастрофу. Здесь писателя охватывает характерный пафос: он считает, что «мы должны понять ее, эту катастрофу; а чтобы понять, надо ее себе представить, — отсюда и возникает нужда в изобразительных искусствах. Но еще мы стремимся оправдать и простить, хотя бы отчасти. Зачем он понадобился, этот безумный выверт Природы, этот сумасшедший человеческий миг?», — размышляет Барнс, объясняя, как беды становятся питательной почвой для создания гениальных произведений.
Изменился ли взгляд на «Плот «Медузы» Барнса спустя годы? Скорее нет, учитывая, что автор постарел на 35 лет и на основе жизненного опыта теперь может создавать более сложные концепции. Вспоминая, что именно с жутковатой картины Жерико у него началось искусствоведческое увлечение, Барнс систематизирует свои галерейные наблюдения: «Я не руководствовался никаким определенным планом, но, собрав свои тексты воедино, обнаружил, что непреднамеренно следовал тому самому сюжету, который начал неуверенно разматывать еще в 1960-х: истории движения искусства (в основном французского) от романтизма к реализму и к модернизму».
Фото: издательство «Азбука» Джулиан Барнс «Открой глаза. Эссе об искусстве»Преобразования живописного романтизма и его проявления в творчестве отдельных художников («Если романтику Делакруа не хватало романтической страсти, то реалист Курбе обладал эгоманией подлинного романтика») составляют ключевую тему книги, которую автор постоянно возвращается, неожиданно переключаясь между теми художниками, которые ему симпатичны. Симпатия никак не мешает Барнсу делать критические и проницательные замечания, например, по поводу Гюстава Курбе, которого он признает великим, но при этом видит в нем продвинутого самопиарщика: «При всем его либертарианском социализме, при всем потрясании основ и искреннем желании очистить запущенные конюшни французского искусства в нем всё же было немало евтушенковщины, немало от лицензированного бунтовщика, знающего, как далеко можно зайти и как монетизировать свой гнев».
Барнсовская «евтушенковщина» (тщательно выверенная поза с демонстрацией искренней страсти, но при этом строгим контролем образа) полностью видна и в самом авторе, который тщательно сохраняет образ веселого современника, разрушающего старые реалистические каноны, порой завидуя художникам за их более свободные средства выражения: «Из всех искусств писатели более всего завидуют музыке, ибо она одновременно предельно абстрактна и вместе с тем непосредственна, а также не нуждается в переводе. Однако живопись уступает ей совсем немного, ведь выражение и средства выражения в ней совпадают во времени и пространстве, тогда как романисты обречены мучиться, медлительно, последовательно, шаг за шагом, скрупулезно выбирая слово, выстраивая сначала предложение, затем абзац, выдумывая фон, придавая образам психологическую убедительность, чтобы на славу соорудить кульминационную сцену».
В новом сборнике отчетливо проявляется и постоянная тема Барнса — тема старения и неизбежного сокращения времени жизни, которая заявляет о себе, к примеру, в эссе, посвященном Ван Гогу, «Селфи с «Подсолнухами»: «Я не уверен, что картины Ван Гога сильно меняются для нас со временем, что мы начинаем смотреть на него иначе и в 60 или в 70 находим в нем больше, чем в 20. Скорее, это отчаянная честность художника, его смелый, яркий цвет и искреннее желание, чтобы в его работах «было нечто утешительное», возвращают нас в юность, дают возможность почувствовать себя снова двадцатилетними. А это не такое уж плохое время. Так что, возможно, пора и сделать селфи с «Подсолнухами».
В сущности, все рассуждения автора про художников — это своего рода автопортрет на фоне известных полотен: любой из героев книги интересен Барнсу лишь в той мере, в какой он отражает собственные комплексы, страхи и навязчивые идеи писателя. Именно эта сильная субъективность делает искусствоведческие эссе Барнса необычными, иногда спорные выводы и смелые обобщения вызывают сочувствие как к человеческой слабости: это не холодный музейный научный анализ, а попытка увидеть в живописи собственные раны и, если получится, продираться до их глубины.
В ходе этой своеобразной психотерапии Барнс в начале книги с удовольствием рассказывает о своих родителях, у которых, по его мнению, не было хорошего художественного вкуса, что объясняет наличие на стенах разной безделушки, а заодно с кокетством упоминает свою корректную сексуальную ориентацию: «Обнаженная, написанная маслом в золотой раме, казалась, возможно, незаметной копией XIX века со столь же малоизвестного оригинала. Родители купили ее на аукционе неподалеку от Лондона, где мы жили. Я запомнил ее главным образом потому, что находил совершенно неэротичной. Это странно, ведь большинство изображений обнаженных женщин на меня действовали, так сказать, здорово. Казалось, именно в этом и состоит смысл искусства: своей торжественностью оно лишает жизнь радости».
Последнее замечание заслуживает внимания — традиция воспринимать великие произведения торжественно часто мешает получать удовольствие от чтения искусствоведческих текстов. Барнс всю жизнь сражается с этим устаревшим подходом и вновь добивается в этом маленькой победы.