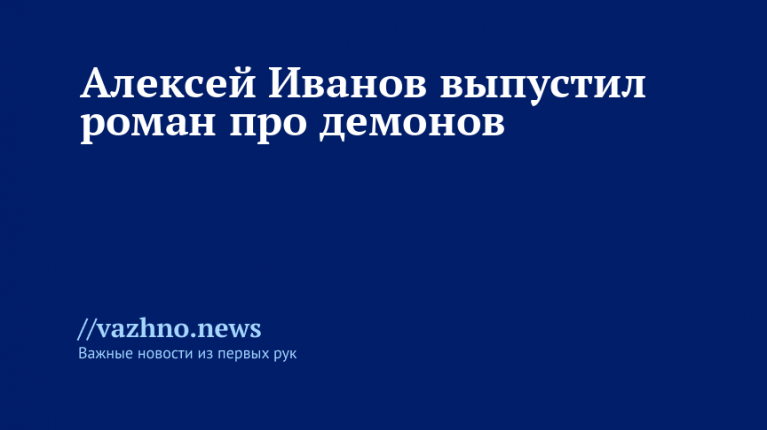Демоны, пожирающие людей, и заводы, требующие новых жертв. В смертельном противостоянии встретились промышленник Акинфий Демидов и государственный деятель Василий Татищев. Колдовство, обман, страсти и изощренная жестокость — таков восемнадцатый век в свежем романе Алексея Иванова «Невьянская башня». После «Фоллаута по-уральски» самый пригодный для экранизации современный российский писатель вновь обращается к эпохе Анны Иоанновны, смешивая подлинные исторические факты и известных деятелей с местными легендами и чудовищами в духе Стивена Кинга. «Известия» публикуют рецензию на новый роман, который только что вышел в продажу.
Почему «Невьянская башня» — исторический роман«Вегетация» была настолько мощным и исчерпывающим авторским заявлением, что было не сразу ясно, чем и как Иванов продолжит свою работу. Нельзя с уверенностью сказать, знает ли сам автор ответ, но «Невьянская башня» одновременно представляет собой паузу и в то же время своего рода краудплизер — произведение, явно играющее на публику. Хоть книга и занимает более 400 страниц, жанрово она ближе к повести. Текст намеренно растянут местами с повторами, чтобы читатель получил максимум удовольствия за пару вечеров, необходимых, чтобы «проглотить» рассказ. Это локальный мистический хоррор на фоне исторических площадок, который удобно взять в дорогу и не пожалеть об этом.
Фото: «Альпина.Проза»Говоря о декорациях, у Иванова с ними порядок: всё прописано аккуратно, и никого не удивит, если после романа он выпустит, как обычно, документальную книгу о реальных событиях. Даже когда автор обращается к фактам, он предельно близок к историческим справочникам или к тому региональному фольклору, который заполняет пустоты официальной истории. Наклоненная Невьянская башня, не уступающая Пизанской; Акинфий Демидов, создавший на Урале собственную промышленную империю; Василий Татищев, у которого тут роль почти самого страшного антагониста; гора Благодать в Свердловской области — обо всем этом у Иванова ощущение максимальной исторической достоверности.
Фото: РИА Новости Акинфий ДемидовСюжет вращается вокруг сооружения Демидовым грандиозной доменной печи в 30-е годы XVIII века. В заводском поселке творятся странные вещи: люди внезапно бросаются в огонь, словно их оттуда призывает местная сектантка Лепестинья, проповедующая свободную любовь и напоминающая хиппи. Врем от времени в мастеров Демидова вселяется некий демон, от которого не найти избавления. Из накренившейся Невьянской башни пропал весьма важный для Демидова человек, и если его обнаружат не те люди — будут большие неприятности. Тем временем из Петербурга в родные места вернулась содержанка Демидова Танька, прозванная Невьяной. Ранее она ушла к Акинфию от мастера Савватия, который не перестал за ней тосковать. А на Урал явился Василий Татищев, у которого с Демидовыми давняя вражда.
Фото: РИА Новости Василий ТатищевИванов сводит воедино миры зарождающейся горнорудной промышленности, старообрядцев — вечных странников, которых Демидов защищает, чтобы они работали на его предприятия, и политических интриг бироновской эпохи, в которые глубоко вовлечены и Демидов, и Татищев. Немного мистики, немного эротики — и получается роман «Невьянская башня».
Каким получился роман «Невьянская башня»Алексей Иванов уважительно относится к своему читателю и предполагает его образованность — как минимум на уровне хорошей гуманитарной средней школы. Литературная игра с аудиторией — одна из тех составляющих, которыми писатель владеет виртуозно. Уже в первой главе действие почти слово в слово повторяет один из самых шокирующих рассказов Чехова «Спать хочется». Во второй главе образ местного шута напоминает скомороха, которого в фильме «Андрей Рублев» исполнил Ролан Быков.
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников Алексей ИвановДальнейшие параллели становятся тоньше и менее явными — над ними стоит читать внимательно. Так, в четвертой главе о Невьяне: «Она никогда ничего не просила — кроме первого раза, когда ушла от Савватия. Она не прислуживала, не угождала, не заискивала и не ублажала. Милости она принимала так, будто ей отдавали долги». Нельзя не вспомнить при этом Послание к Коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Мелодика и конструкция нарочито перекликаются: Невьяна на подсознательном уровне приравнивается к высокому новозаветному идеалу — и во многом ему соответствует. Так Танька по прозвищу Невьяна предстает не просто как женщина, ушедшая от бедняка к богачу, а как нравственный эталон, который Иванов делает центральным в произведении.
Иванов нарастит трагическую интригу введением «тени отца Гамлета», тщательно замаскированной, разумеется. А когда наступит эротическая сцена, он выстроит абзац так, чтобы герои, словно башмачки, падали на пол, и чтобы пастернаковская свеча обрела образ Невьянской башни. Это демонстрирует высочайшее мастерство реминисценции у автора.
С другой стороны, не случайно роман всё же ощущается ближе к повести и иногда кажется недописанным. Действие сосредоточено на территории в несколько сотен квадратных километров, хотя нам регулярно называют координаты локаций, которые логично были бы показаны в тексте. В отдаленном виде присутствует вотчина Демидовых в Туле, где происходят семейные преступления в духе «Братьев Карамазовых». Но гораздо более заметно отсутствие Петербурга — места, где нам следовало бы побывать. Там долго жила Невьяна и распоряжалась демидовским имуществом в столице; там же фигурирует Бирон, о котором говорят в диалогах и которого следовало бы «встретить», как, к примеру, великого князя Ивана в «Сердце Пармы». Почему Иванов отказался от этой опции, понять сложно: материала у него явно было достаточно. Возможно, не хватило времени, а может, он приберег часть материала для нон-фикшн-версии. Вероятно, и то, и другое вместе.
Фото: TASS/Vladimir Zhabrikov Невьянская башняПо стилистике и приёмам у Иванова здесь почти ничего нового: роковая женщина, титан по своей природе герой-борец с богами, карающий чиновник с неограниченными ресурсами, уверенные в своей правоте раскольники, гордые носители местных архаик, сгущающийся рок и мстительный демон — всё это уже встречалось в его работах. После историософского замаха «Вегетации» хотелось чего-то более масштабного, но в итоге Иванов остаётся при простой, хоть и развернутой, метафоре: заводы требуют человеческих жертв, власть жаждет жертвоприношений, религия и демоны питаются кровью. Кто-то приносит себя добровольно, кто-то становится палачом и несет жертвы на алтарь. Всё это происходит якобы ради новых свершений, преобразований и прогресса. Тот, кто отказывается быть ни жертвой, ни палачом, заранее проигрывает — он обречен на забвение; лузеров не чтят, даже когда они совершают подвиги.
Иванов, как и прежде, показывает события через призму многих персонажей, давая увидеть, какими они кажутся в глазах других. Он добивается, чтобы мы восхищались каждым из них и не спешит принимать чью-то сторону. Но в одном автор твердо уверен: любые кровавые жертвы — это преступление. Иногда их удается остановить, но чаще — нет, потому что так устроен мир и он движется в неведомом нам направлении, от которого уйти нельзя. Пропитанная кровью Невьянская башня — одно из множества свидетельств этому.