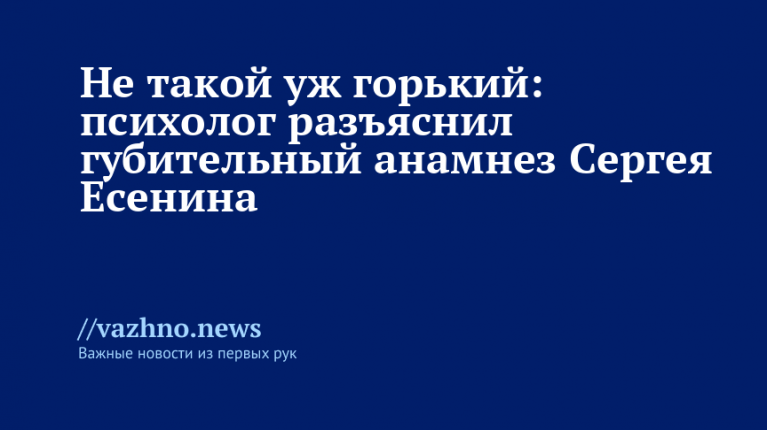Короткая, бурная биография, печальный финал и, конечно, выдающиеся стихотворения — такой портрет Сергея Есенина знаком большинству россиян со школьной скамьи. Но до сих пор дискутируют о причинах трагедии в «Англетере». Психолог Алексей Филиппенков попытался дать ответ, опираясь на свою профессиональную специализацию. Критик Лидия Маслова специально для «Известий» рассказывает о книге недели.
Алексей Филиппенков«Трагедия Сергея Есенина. Взгляд психолога»Москва: издательство АСТ; редакция КПД, 2025. — 576 с.
Автор нового исследования о Сергее Есенине, психолог Алексей Филиппенков, ставит своей главной задачей опровержение недобросовестных конспирологических версий, утверждающих, что за гибелью поэта стоял злобный чекистский заговор (среди основных оппонентов, с которым полемизирует Филиппенков, — автор книги «Тайна гибели Есенина»). Если свести его позицию к сути, то он склоняется к более прозаичному объяснению: трагедия поэта, по мнению исследователя, объясняется не заговором и травлей со стороны «компетентных органов», а сложением неблагоприятных факторов — отсутствием в детстве необходимой материнской любви, недополученным признанием и вниманием как истинного гения, от которого Есенин ожидал большего, и, наконец, болезненным тщеславием, усугубленным алкоголизмом, который разрушил его неустойчивую психику. В совокупности эти печальные обстоятельства, полагает Филиппенков, и привели к роковому исходу в номере гостиницы «Англетер» 28 декабря 1925 года.
Фото: издательство АСТ Алексей Филиппенков, «Трагедия Сергея Есенина. Взгляд психолога»Практически на каждой странице книги у Филиппенкова встречаются горделивые формулы «я как психолог» или «мне как специалисту», изобилие которых порой лишает пространство для простого человеческого сочувствия к герою. Есенин здесь предстаёт как нарциссичная, инфантильная натура, трудная для окружения, друзей и многочисленных женщин. В ряде рассуждений психолога слышится оттенок снисходительного осуждения в адрес поэта с патологическим тщеславием и безответственностью, не сумевшего организовать свою жизнь и слишком обиженного на мир: «Оказавшись за границей, Есенин особо и не стремится работать на свой положительный образ. Еще несколько лет назад он выбрал для себя образ хулигана, который идет к славе через черный пиар. Тщеславие и жажда внимания превалируют над поэтическим наследием. Это его эмоциональное топливо, без которого он не может жить. При этом качество получаемого внимания Есенина особо не волнует. Главное в нем — это избыточность и стремление быть больше любыми способами. А это для меня, как для психолога, уже первые звоночки в понимании его возможной истероидности».
Эта основная мысль — что желание быть в центре внимания любой ценой, по сути, погубило Есенина — проходит через всю книгу, которой не хватает более тонких нюансов и полутонов для создания объёмного образа сложной поэтической личности. Только через стихи и письма поэта можно усомниться в примитивности его внутреннего мира, и становится ясно, что дело было сложнее, чем утверждает Филиппенков, опирающийся главным научным ориентиром на американскую неофрейдистку Карен Хорни (ее он слишком восторженно причисляет к «великим»). Описание невротической личности, охваченной хронической «базальной тревогой», оказывается удобным для наложения на есенинское поведение: «Поскольку он живет в соревновательном обществе, то из чувства, что он находится в самом его низу, изолирован и окружен врагами (а у него именно такое чувство), у него может появиться только настоятельная потребность поставить себя над другими».
Фото: ТАСС Поэт Сергей ЕсенинДля анализа взаимоотношений Есенина с Айседорой Дункан Филиппенков активно использует трансактный анализ, делящий внутренний мир на «ребенка», «взрослого» и «родителя». По этой теоретической модели он трактует мучительные отношения пары так: «В нем конфликтуют внутренний ребенок и взрослый. Поменять эту модель взаимоотношений и проявить внутреннего взрослого Есенин не в состоянии, так как Айседора имеет над ним власть и играет роль контролирующего родителя, а в самом Есенине доминирует эго-состояние ребенка».
С первых страниц автор прямо отказывается от претензий на литературность и постоянно подчёркивает, что его главный аргумент — профессионализм психолога, хотя к концу он признаёт, что психология не всегда способна дать ясную логику суицидальным поступкам: «А я, как психолог, много работавший с суицидентами, скажу, что в психологии нету логики». Тем не менее холодный и аналитический голос исследователя иногда сменяется на поэтичные описания — так, в изображении последней ночи поэта мы читаем: «Холодный зимний вечер окутал улицы Ленинграда. Порывы леденящего ветра пошатнули мрак над Исаакиевской площадью. Округа засыпает, покоятся в тиши перекрестки, смолкают проспекты. Лишь редкие извозчики подгоняют лошадей, исчезая в темных улочках. В пучине сумерек скрывается и гостиница «Англетер».
Вместе с тем у серьезного психолога проступают и разговорные обороты. Фраза «по-всякому» нередко появляется в разном контексте и иногда звучит комично, внося в тон книги легкий оттенок зощенковского; это заметно в главах о борьбе одной из возлюбленных поэта Галины Бениславской с есенинскими собутыльниками: «Галя характеризует Аксельрода по-всякому: гнусный, бессовестный, любитель сильных ощущений и бесплатной выпивки». Или: «Друзья Есенина угрожают Бениславской по-всякому». В итоге эти стилистические шероховатости и отходы от строгой научной лексики придают работе Филиппенкова некую человеческую теплоту, благодаря чему «Трагедия Сергея Есенина» перестаёт быть исключительно сухим диагнозом и помогает увидеть в поэте страдающую личность, а не только неизлечимого пациента-истероида, не справившегося с управлением собственной необузданной и эгоистичной натурой.