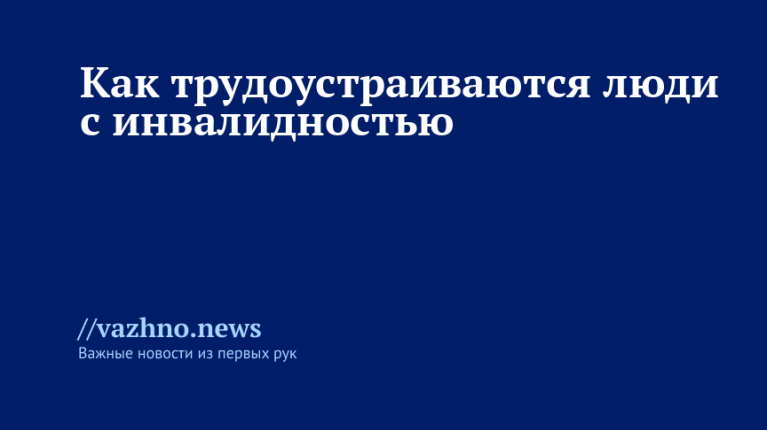Согласно данным Минтруда, в России трудоустроена только треть трудоспособных людей с инвалидностью — это около 1,2 млн человек из 4,3 млн. Эксперты подчеркивают, что кадровый потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья практически не реализован по разным причинам. А многие из тех, кто мог бы работать, вовсе признаны недееспособными. «Известия» собрали несколько историй, когда люди с инвалидностью работают, несмотря на все препятствия, и приносят реальную пользу.
Работать глазамиДенису Бартошу 26 лет. Он программист. С отличием закончил колледж. Кажется, стандартная и весьма успешная история, вот только работу не удавалось найти более пяти лет.
Дело в том, что Денис почти не говорит и плохо владеет руками: у него тяжелая форма нарушений опорно-двигательного аппарата и серьезные нарушения в развитии речи и письма — дизартрия, дислексия и дисграфия.
Последние девять месяцев он работает в компании Sloplast, которая производит HPL-панели. В его обязанности входят создание и ведение баз данных, работа с документами. Прямо сейчас выполняет маркетинговый анализ рынка HPL.
HRD компании Sloplast Мария Волкова рассказала, что Денис Бартош работает удаленно, но трудится наравне с другими сотрудниками. Его главные достоинства — системность, тщательность и методичность.
— Сейчас есть широкий круг задач, которые мы можем решить с помощью Дениса. Подключаем его для помощи разным отделам. Он особо ценный сотрудник, ведь всегда очень внимательно и ответственно относится к своей работе, — сказала Мария Волкова «Известиям».
Работать Денису помогает айтрекер. Это устройство улавливает перемещение глаз, анализирует, на каких участках экрана и как фиксируется взгляд человека. Встроенный синтезатор речи при этом озвучивает тексты.
Денис Бартош попал в компанию Sloplast благодаря ОАНО «Центр». Это некоммерческая организация, которая обучает детей, имеющих тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата и сопутствующие нарушения здоровья: речи, зрения, слуха. «Центр» несколько месяцев искал подходящего работодателя для Дениса.
Директор организации Ольга Благодатских отмечает, что поиск работы для них очень непрост: диплом часто не гарантирует признания возможностей работника, двигательные нарушения пугают работодателей. Есть и предубеждение о возможностях работников с ДЦП: многие даже отказываются посмотреть резюме и понять, что может человек. Поэтому случай Дениса пока во многом уникальный.
Музыкант с айтрекеромСейчас Денис Бартош пишет свою версию синтезатора речи — он мечтает сделать бесплатный и всем доступный вариант программы для людей с ДЦП. Часть зарплаты откладывает, чтобы оплатить работу программиста, который ему поможет. А также ищет инвестора для еще одного проекта, умной системы «Ксюша» — инновационной инвалидной коляски, управляемой руками и/или движением глаз.
— Конечно, мне необходимо немного больше времени на работу, так как глазами гораздо дольше делать то, что другие делают руками, — сказал Денис Бартош «Известиям». — Но технический прогресс для меня жизненно важен. Он помогает мне реализоваться как человеку и как специалисту. Техника заменяет речь, а айтрекер заменяет работу руками.
Благодаря технологиям можно быть кем угодно. Это показывает пример Константина Саламатина, подопечного петербургской благотворительной общественной организации «Перспективы». У него очень тяжелая форма ДЦП, он вынужден перемещаться на коляске, которую специально адаптировали под его индивидуальные особенности. Из-за тяжелой спастики рук и ног возможности в движении Кости ограничены, он зафиксирован в своей коляске. Но это не мешает ему оставаться деятельным человеком, говорит директор по связям с общественностью благотворительной организации Евгения Соколовская.
У Константина было очень сильное желание творить, доносить свои идеи и быть понятым. Он один из первых начал заниматься в компьютерном классе, открытом «Перспективами» на территории психоневрологического интерната. Педагоги заметили его чрезвычайный интерес к музыке. И вскоре он уже писал собственные треки под псевдонимом Solomon Keys, а затем и начал создавать картины.
— Сначала — с помощью прикрепленного к голове стилуса, которым надавливал на кнопки клавиатуры. Когда Костя переехал на сопровождаемое проживание «Перспектив», он вместе с соцработником освоил айтрекер. Это позволило Косте получить работу — он занят в керамической мастерской, ведет учет и заказывает материалы, — рассказала Евгения Соколовская.
Фото: личный архив Константина СаламатинаСейчас у Константина выходят музыкальные альбомы, выставки его цифровых работ проходят в ведущих галереях.
Удаленка — проблемаНо людям с серьезными нарушениями здоровья нужна помощь в трудоустройстве. Самостоятельно найти работу сложно даже тем, у кого нет проблем с речью.
У Дмитрия Филина миодистрофия Дюшенна. При этом заболевании все мышцы в организме постепенно ослабевают. Тем не менее сейчас он работает менеджером по поиску ключевых партнеров в компании GO Expert. Однако свою работу мечты он искал почти три года. По его словам, это было сложно психологически — очень долго и безрезультатно Дмитрий пытался найти удаленную работу и, возможно, не на полный день.
— Поиск работы в интернете очень сильно осложнялся тем, что приходилось сталкиваться с очень большим количеством сомнительных и даже откровенно мошеннических предложений, — рассказал он «Известиям». — Такие люди, как я, находясь в поиске работы, могут оказаться в довольно уязвимом положении.
По его словам, такой долгий и безрезультатный поиск работы было сложно перенести психологически. Небольшие подработки, связанные с графическим дизайном, удовлетворения не приносили: ему было важно работать постоянно и приносить пользу.
Причем, рассказывает Дмитрий, он не замечал каких-то опасений со стороны работодателей именно из-за его физических особенностей. Как ни странно, главной проблемой было именно его желание работать удаленно.
Выручил благотворительный фонд «Дом с маяком», а именно кейс-менеджеры этой организации, которые помогают подопечным разобраться в конкретных ситуациях.
— Честно говоря, сначала я довольно скептически к этому отнесся. Но со мной провели интервью, обсудили навыки, цели, чего я бы хотел добиться. И в конце августа я смог устроиться на работу в консалтинговую организацию, — говорит Дмитрий Филин.
«Интернатовские тоже могут»Всё становится сложнее, когда речь идет о людях, лишенных дееспособности. Далеко не все живущие с таким статусом действительно не могут работать. Так, по словам Ольги Благодатских, при ДЦП не менее 20% диагнозов «умственная отсталость» ставятся ошибочно.
Координатор проекта «Трудоустройство» АНО «Служба защиты прав» (работает на территории Нижегородской области при поддержке проекта «Регион заботы» «Народного фронта») Ирина Маляева говорит, что особенно сложно трудоустраивать тех, кто живет в психоневрологических интернатах. В том числе потому, что сотрудники ПНИ часто не верят в их реальные способности.
— Есть трудности и на рынке труда: существует совсем немного профессий, которые адаптированы к трудоустройству людей с нарушениями психики, — рассказывает собеседница «Известий».
По данным «Службы защиты прав», среди людей, проживающих в интернатах Нижегородской области, трудоустроено 4%. В целом по России этот показатель еще ниже — всего 2%. Фактически работают гораздо больше: подопечные интернатов по собственному желанию помогают в ПНИ, часто выполняя обязанности штатных сотрудников, но не трудоустроены официально.
Директор АНО «Служба защиты прав» Екатерина Кантинова рассказывает: когда таких «помощников» предложили трудоустраивать официально, интернаты пошли навстречу. Сейчас в Нижегородской области около 300 проживающих в ПНИ, которые официально работают. Но многие из ребят признавались, что им хотелось бы работать именно вне интернатов.
Тогда и появился проект «Трудоустройство». Подопечным ПНИ ищут подходящие вакансии, помогают в создании резюме, ведут переговоры с потенциальными работодателями. Главная сложность пока — это страхи владельцев компаний.
— В обществе сложилось четкое предубеждение, что работать могут только люди полностью здоровые, в том числе и психически. И эти страхи становятся барьером к тому, чтобы принять человека на работу, — говорит Екатерина Кантинова.
Однако, объясняет она, такие люди не опасны и агрессивны, а скорее, наоборот, доверчивы и уязвимы. Им нужны немного другие условия для продуктивной работы, при этом многих из них не утомляет монотонная работа, они могут спокойно выполнять рутинные задачи и радоваться возможности не сидеть без дела.
Один из первых участников проекта — Леонид из Автозаводского ПНИ (Нижний Новгород). Раньше он работал на кухне в интернате, а теперь это раскладчик товара в гипермаркете «Ашан». Ему очень помогла поддержка со стороны действующих сотрудников компании — они много подсказывали и подбадривали. А теперь ценят его усердие.
«Я хотел, чтобы люди видели: я могу не только в интернате работать. Могу и за его пределами. Чтобы меня приняли к своему обществу и поняли: интернатовские тоже могут», — говорил вскоре после трудоустройства Леонид.
Способный недееспособныйЕсть в разных ПНИ по всей стране и совершенно уникальные люди. Алексей Сахнов проживает в одном из петербургских психоневрологических интернатов, он недееспособен. Но он признанный художник. Скоро он станет одной из центральных фигур масштабного проекта «Выставка про ПНИ», которая в начале декабря этого года откроется в Музее Москвы.
— Алексей там представлен вторым художником наряду с Юрием Козыревым — фотографом и художником мирового уровня, многократным победителем международной фотопремии World Press Photo, — рассказала «Известиям» исполнительный директор благотворительной организации «Перспективы» Екатерина Таранченко. — Сам Козырев, работая над этой темой, сразу обратил внимание на Алексея и его искусство и теперь называет его своим соавтором.
Послужной список Алексея Сахнова велик: соавторство в проекте с художником и фотографом из Нидерландов; его работы находятся на хранении в Русском музее; он участвовал в выставках в галереях современного искусства. Алексей работает как график, конструирует модели из разных материалов, в последнее время увлекся фото- и видеоискусством.
— Он буквально всё свое время посвящает созданию — ищет материалы, снимает, рисует, делает объекты. Очевидно, что Леша — человек-художник, сущность которого неотделима от творчества, — сказала Екатерина Таранченко.
У Алексея Сахнова есть психиатрический диагноз, он слабо слышит, а общается в основном жестами и мимикой — причем это не классический жестовый язык, а его собственная система знаков.
— И тем не менее он отлично адаптирован: контролирует свое поведение, следит за собой, за своими вещами, справляется с повседневной жизнью. На том уровне, на котором он живет в условиях интерната, он абсолютно самостоятельный человек, — заметила Екатерина Таранченко.
Алексей полностью осознает себя художником: любит внимание к своим работам, любит выставляться и участвовать в резиденциях. Требовательно относится к условиям своей работы: у него есть специальная рабочая одежда, всегда просит материалы, технику, пробует новое. У него есть свой почерк и стиль.
Но из-за того, что Алексей признан недееспособным и живет в ПНИ, он не может самостоятельно распоряжаться деньгами, заключать договоры и получать гонорары. Все документы за него подписывает директор интерната, у которого сотни подопечных. С учетом интереса к работам Сахнов мог бы сам оплачивать аренду квартиры и сопровождение, необходимое ему для адаптации к жизни вне интерната. Но этого не происходит.
— Чтобы продавать картины или получать вознаграждение за участие в выставках, нужно заключать договоры, определять стоимость работ, оформлять авторские права. Для интерната это слишком сложно и рискованно. Я знаю достаточное количество аналогичных случаев, когда работы местных художников хотят купить коллекционеры, но интернаты отказываются от сделок, опасаясь санкций или проверок, — сказала Екатерина Таранченко.
Пока с материалами, поездками, новой техникой ему помогает благотворительная организация, а ПНИ дает помещение на территории интерната, где сотрудники «Перспектив» занимаются с подопечными творчеством.
— Мы много лет говорим о необходимости закона о распределенной опеке. Суть его в том, чтобы у человека могло быть несколько опекунов: например, один отвечает за бытовые вопросы, другой — за творческие и профессиональные. В случае с художниками это мог бы быть попечитель, который помогает вести дела, оформлять участие в выставках, заключать договоры, получать гонорары и распоряжаться ими в интересах и по желанию самого автора, — говорит Екатерина Таранченко.
Последний законопроект на этот счет был отклонен, но в сообществе надеются, что к этой идее еще вернутся.
Возвращение в жизньВ некоторых случаях помогают усилия юристов и общественников, которые избавляют людей с ментальными нарушениями от ярлыка недееспособности.
Так произошло с Валерием Турулиным из Пензенской области. Он жил в Мокшанском детском доме, потом в ПНИ, а затем попал в арт-поместье «Новые берега» благотворительной организации «Квартала Луи». Это крупнейший в стране проект сопровождаемого проживания, где выходцы из ПНИ учатся жить самостоятельно. Там Валерию Турулину сразу сообщили, что постараются вернуть его дееспособность — первому из всех подопечных благотворительной организации.
Ему удалось пройти все испытания при процедуре возвращения дееспособности — месяц обследования в психиатрической больнице, череду судов, — и теперь он самостоятельный человек. А в 2023 году Валерий устроился на мебельную фабрику в селе Богословка Пензенской области, трудится там уже больше двух лет и получает хорошую зарплату.
— Работа с трудоустройством людей с инвалидностью — это всегда двусторонний процесс, — говорит исполнительный директор АНО «Квартал Луи» София Львова-Белова. — С одной стороны, важно готовить самих ребят: не у всех есть мотивация, дисциплина, понимание, как устроен рабочий день. С другой стороны, есть работодатели, которые, несмотря на интерес, боятся брать на работу человека с инвалидностью.
Однако опыт показывает, что всё возможно. Именно поэтому важно выстраивать устойчивые механизмы, которые сделают трудоустройство людей с инвалидностью системным и масштабным, а не единичным исключением, подчеркивает София Львова-Белова.