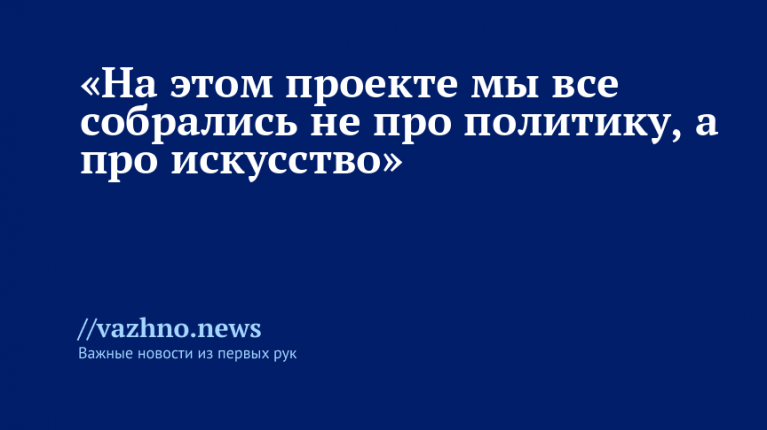Дважды номинант на премию «Оскар», режиссер Константин Бронзит представил на кинофестивале «Маяк» в Геленджике свой новый анимационный фильм «На выброс», созданный совместно с канадской студией Lakeside Animation. Картину делали пять лет, и не помешали ни ковид, ни санкции. Один из самых именитых российских авторов недоволен своим новым фильмом и считает, что анимация заранее проигрывает игровому кино уже на старте. Бронзит скептически относится к новым технологиям, отмечает преобладание самоучек-дилетантов в профессии и с удовольствием цитирует Мераба Мамардашвили. Об этом и многом другом — в интервью мастера «Известиям».
«Фонд кино или Минкульт никогда не дает полностью запрашиваемую сумму»— Ваш новый анимационный фильм «На выброс» рассказывает о вещах, отправленных на свалку. Как появилась эта задумка?
— Идею подал мой друг и коллега Дима Высоцкий. Уже в который раз он кидает мне какую-то мысль, которая меня цепляет и затем превращается в кино. Причем мысль может быть очень лаконичной, как это было в «Уборной истории» в 2009 году. И, кстати, в прошлом году я также по его идее сделал новую авторскую короткометражку, которую пока вообще никто не видел. И вот пять лет назад Дима пришел ко мне с задумкой мультфильма «На выброс». Мне его идея страшно понравилась, мы дружно кинулись писать сценарий, и вот в конце концов получился фильм.
— Насколько я знаю, у вас были трудности с бюджетом. Что потерял фильм из-за этого?
— А у кого нет проблем с бюджетом? Денег не хватает. Фонд кино или Минкульт никогда не дает полностью запрашиваемую сумму. Всегда половину или только какую-то часть. Поэтому производство пришлось удешевлять. В итоге, к сожалению, у нас не та технология, в которой я мечтал видеть этот фильм. Пришлось искать компромиссы. Ну, что делать.
— Каким вы хотели его видеть?
— Это должна была быть честная компьютерная 3D-графика, чтобы в кадре всё было максимально фактурно, осязаемо. Мне казалось, что именно для этой истории эта технология уместна. Это был бы тактильно ощутимый кинокадр. Мне кажется, это сильнее работало бы, вызывая больше эмоций из-за более «правдивой» картинки.
Сейчас же всё довольно условно. И зритель должен всё время убеждать самого себя и стараться верить, что перед ним не рисунок, а настоящие предметы. Современный зритель прекрасно понимает правила игры в мультипликацию и готов продираться через ее условность. Хотя у меня ощущение, что фильм от этого немножко проиграл. Но, кстати, это тот редкий случай, когда Дима Высоцкий со мной не очень согласен.
— Главный герой — галстук по имени Мак, представитель высшего общества. Вы нередко выбираете неочевидных персонажей — космонавтов, уборщиков, теперь предметы. Почему?
— Всё, что вы перечислили — это, так сказать, пограничные исходные данные. А как меня учили умные люди, работать нужно на полюсах. Это выгодно. Драматургия требует полярности. Тем больше из нее можно вынуть эмоциональности. Почему, например, космонавт? Потому что это страшная, опасная профессия. И мы все это знаем. Или женщина, работающая в мужском туалете, уборщица. Не самое веселое и, с точки зрения социальных клише, не самое почетное для женщины занятие. Туалет — это не то место, которым будешь хвастаться, что ты там работаешь. У зрителя это откладывается в подкорку и начинает развиваться в правильном для режиссера направлении. Любой кинематографист, сценарист понимает потенциал этого заряда. Другой момент — нужно уметь правильно все эти «козыри» разыграть.
Потому что слабым сценарием, так же как и слабой режиссурой, можно запросто профукать весь этот исходный потенциал. Когда у тебя на руках хорошие козырные карты, нужно уметь правильно их разыграть.
— В этой истории красной нитью проходит тема веры. Почему для вас она здесь важна? Вы воцерковленный человек?
— Нет, я скорее бесконечно сомневающийся агностик. Я могу сходить в церковь и поставить там свечку. Даже иногда это делаю. Но ровно в этот момент смотрю на себя как бы со стороны с бесконечной иронией. Но здесь ведь мы про другое — про веру во что-то очень ценное, про «веру в жизнь и в мысль», по Мамардашвили. Большинство людей опираются на некую систему ценностей. Мы за нее боремся, отстаиваем, по возможности ей следуем. И разговор с внешней красоты всегда переводится на красоту внутреннюю в попытке найти идеальную гармонию, которая, конечно, увы, не достижима. И поэтому мы, мультипликаторы, тоже следуем этому направлению. И это не про поход в церковь, а про попытку приблизиться к человеку, к его душе.
— Таким прекрасным символом стала чайка по имени Джонатан Ливингстон. В мультфильме вообще много литературы.
— Да, хотя это не литературная история. Она не про книги, но удивительным образом хорошо вписалась сюда юмористически. Учитывая то, что у нас вообще литературоцентричная страна, на зрителей это сильно воздействует.
— На какого зрителя вы ориентировались: на юное поколение или на взрослых?
— Да нет такого «специального» зрителя. Мы просто пытаемся сделать интересный фильм. Увы, это сильно размытое понятие. И тут каждый режиссер опирается только на свои собственные представления об «интересности». Понятно, что пятилетний ребенок не поймет столько, сколько поймет взрослый человек. Но это неважно. Важно, чтобы в истории нашлось что-то такое и для него, что зацепит и удержит его внимание. Мы как раз за это и боремся, чтобы фильм был многослойным, чтобы любому человеку, пришедшему его посмотреть, было на что опереться.
«Проблема анимации — ее резко пониженный эмоциональный фон»— «На выброс» создавался при участии канадской студии Lakeside Animation. Вы ведь попали в ковидное время. Не помешало ли это отношениям?
— Канадцы — молодцы! Они нас не бросили, выполнили все свои обязательства и дошли с нами до конца. В основном они делали много важной рутинной работы. Без нее никакое кино не получится. Например, наш художник Рома Соколов создавал концептуальные фоны главных локаций: библиотека, канал, переулок. А канадцы уже по этим эскизам делали дополнительные укрупнения, ракурсы, всё красили и таким образом снабжали бэкграундами весь фильм. Еще они частично написали музыку.
— Одно дело — ковид, а другое — политика. Не было разговоров о прекращении сотрудничества после 2022 года?
— В тот момент мы, конечно, испугались. Но они сказали, что на этом проекте мы все собрались не «про политику», а «про искусство», что у них есть перед нами обязательства, и они их полностью выполнят. Поэтому у нас всё получилось.
— Впервые в конкурсной программе «Маяка» заявлен анимационный фильм. Честно ли, на ваш взгляд, анимации соревноваться с игровым кино?
— Знаете, тут нет писаных правил. Как правильно заметил программный директор фестиваля Стас Тыркин, прецеденты есть: полнометражные анимационные фильмы берут в конкурс и Канны, и Берлин. Стас решил пойти таким же современным путем и поставить в ряд с игровым картинами нашу анимацию. И это здорово, спасибо ему большое за это смелое решение.
Я не исключаю, что часть наших коллег из игрового кинематографа слегка от этого опешила. Ну, в конце концов, в жизни должно быть место для удивления. Более того, давайте отдавать себе отчет, что анимационное кино никак не может конкурировать с игровым. Проблема анимации — ее резко пониженный эмоциональный фон. Это родовая травма нашей профессии.
У анимационного персонажа нет готового психического наполнения. Мы должны каждый раз создавать его полностью с нуля. У человека, у актера в игровом кино оно есть по умолчанию. Живое лицо, его взгляд даже с фотографии действует на нас несопоставимо сильнее, чем взгляд даже тщательно нарисованного персонажа. Поэтому любой анимационный персонаж всегда проиграет живому актеру. Но ничего страшного, зато мы впервые на большом экране показали свой фильм профессиональной публике.
«60−70% людей в индустрии анимационного кино — это самоучки»— Вы часто говорите, что российская анимация держится на энтузиастах, которые работают вопреки. Что сегодня сильнее всего мешает развитию отрасли — нехватка технологий, финансирования или кадровая усталость?
— Как правило, это две вещи. Первая — отсутствие нужного количества денег. Их всегда мало. И это не для того, чтобы режиссер или художник много зарабатывал. Хотя не вижу в этом ничего плохого. Анимационное кино — это сложное и дорогое производство. Как только денег не хватает, производство начинает удешевляться в ущерб качеству.
Вторая проблема — это бесконечная нехватка профессиональных кадров. Всё равно у нас 60−70% людей в индустрии анимационного кино — это самоучки, не окончившие никаких курсов. И когда мы все начинаем вариться в соку такого условного профессионализма, это тоже влияет на качество.
— Почему так происходит? Не учат?
— Да вроде как даже наоборот — есть ощущение, что сегодня учат все, кому не лень. Как ни откроешь соцсети — вот опять кто-то открыл и рекламирует свои курсы. Но, видимо, общий уровень обучения по всем профессиональным позициям очень слабый. Это серьезная проблема во всем мире. Часто человек сам еще не успел чего-то достигнуть, не заработал профессиональный бэкграунд, а уже кидается учить. А сам пока мало что умеет, и предъявить нечего. Но люди всё равно идут, потому что учиться хочется, а альтернативы особой нет.
В любом образовании нужны системность, академичность. Ну и главный вопрос — кто учитель? Всё упирается не в вывеску учебного заведения, а в конкретного педагога. Он может не иметь отношения к какому-нибудь серьезному университету, жить в деревне Гадюкино и при этом быть хорошим педагогом и вести свой авторский онлайн-курс.
— Кажется, здесь вам на помощь должен прийти искусственный интеллект. Он стал полезен для анимации?
— Ну, насколько мне известно, обучающих функций на него вообще не возлагают. Пока есть только попытки возложить на нейросети сложные рутинные процессы производства, которое, как я уже сказал, в анимации по-прежнему очень дорогое. Но даже эта задача на сегодняшний день остается неразрешимой.
— Вы не работаете с искусственным интеллектом?
— Большинство наших студий — нет. И я не знаю тех, кто работает, хотя многие смотрят в его сторону, но пока чисто из любопытства. Исследуют возможности его применения. Но пока, кроме непрофессиональной чепухи, ничего путного я не видел.
— Есть ли у вас любимый мультфильм?
— Есть. Снял его голландский режиссер Майкл Дюдок де Вит. Фильм называется «Отец и дочь». Это очень короткий фильм, всего восемь минут. Вы можете посмотреть его в интернете. Это великое произведение. Нашему зрителю этот режиссер может быть знаком по его полнометражному фильму «Красная черепаха», который он снял на студии «Гибли» Хаяо Миядзаки.
— Если бы у вас была возможность создать фильм без ограничений бюджета, формата, какой была бы эта история, о чем бы вы рассказали?
— Понятия не имею. Если сейчас передо мной грохнут мешок денег, я растеряюсь, потому что на данный момент у меня нет готового проекта для реализации. Есть только какие-то туманности в голове. Но именно так чаще всего и бывает. Поэтому я, к сожалению, буду вынужден сказать: «Подождите, вопрос пока не в деньгах. Сначала я должен сформулировать для себя собственную мысль». Потому что может так оказаться, что проект станет для меня очень важным, но стоить он будет не очень дорого. Качество идеи и ее стоимость часто не имеют никакой связи.
Справка «Известий»Константин Бронзит — российский аниматор. В 1983 году окончил художественную школу им. Б.В. Иогансона при Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Работал художником-аниматором на студии «Леннаучфильм», где дебютировал мультфильмом «Карусель» (1988 год). В 1995-м окончил отделение режиссуры анимационного кино Высших режиссерских курсов (мастерская Федора Хитрука). Стал широко известен благодаря мультфильму «На краю земли» (1999 год). С 2009 года — член Американской академии кинематографических искусств «Оскар». Номинировался на «Оскар» в 2009 и 2016 году за картины «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса». Заслуженный деятель искусств России.
Скрытая часть