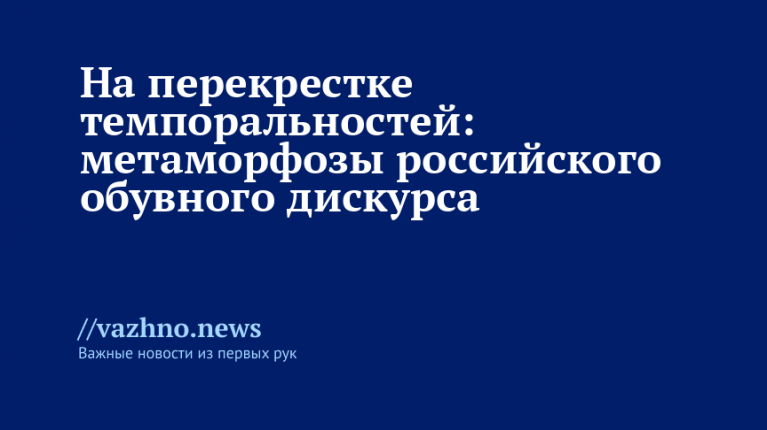Сотрудница Государственного музея истории Санкт-Петербурга Мария Терехова выпустила книгу, посвящённую женской обуви XIX–XX веков, раскрывающую историю появления различных моделей и их роль в формировании культуры. Подробнее — в обзоре «Известий».
Мария Терехова«Очерки культурной истории обуви в России»
Москва: НЛО, 2025 — 324 с.
Издание Марии Тереховой, сотрудницы Государственного музея истории Санкт-Петербурга, выросло органично из каталога 2022 года «Женская обувь XIX–XX веков в собрании ГМИ СПб», который стал первым в России комплексным научным описанием музейной коллекции обуви. Автор систематизирует и описывает музейные ботинки и туфли, деля их по категориям, а также пытается осмыслить каждую модель с культурно-исторической точки зрения.
Отмечая, что подобного культурологического анализа обуви в России практически не было (существующие публикации по обувному дизайну и технологии не затрагивают культурную семантику одежды и обуви), Терехова не ставит перед собой цель охватить тему полностью, именно поэтому жанр ее книги — «очерки». Тем не менее, эта коллекция эссе производит целостное впечатление, благодаря культурно-семиотической методологии, являющейся базой исследования. «Культурные смыслы материальных вещей — сложный, комплексный предмет исследования. Поэтому в поиске ключей к интерпретации обуви как культурного текста приходится обращаться и к понятиям из области социологии, культурной антропологии, искусствознания, и к приемам дискурс-анализа», — отмечает автор.
Фото: издательство НЛО Мария Терехова, «Очерки культурной истории обуви в России»Главная ценность книги — не только широкий терминологический аппарат с отсылками к авторитетам вроде Ролана Барта или Георга Зиммеля, а прежде всего эмоциональная составляющая. Особенно очевидна она в конце книги, когда автор переходит от теорий к личному опыту, беря в руки ботиночки и пытаясь вообразить женщину, которая их носила, хотя она уже давно ушла из жизни.
Работая над тем, чтобы оставить потомкам материальный след существования, жители России всегда сталкивались с большими трудностями — один из ключевых выводов Тереховой, объясняющей, почему в нашей стране было сложно «хорошо обуться». Этот вопрос касается не только ужасного «обувного голода» в годы Первой мировой и Гражданской войн, когда промышленность переключилась на военную продукцию. Не случайно глава, описывающая период сталинского «Великого перелома», называется «Снова нечего обуть».
Особенно автор рассказывает о первых десятилетиях XIX века, с которых начинается её исследование, когда купить обувь в первоклассных магазинах могли лишь немногие горожане, а большинство обращалось к сапожникам-кустарям, которые имели свою иерархию. «Кустарей-обувщиков высокого класса называли «волчками» — они «совершенствовали свое мастерство до художества, — цитирует Терехова работу Михаила Пришвина 1925 года «Башмаки: Исследование журналиста». — Противоположностью волчков были так называемые погонщики — те, кто заботился прежде всего о количестве, а не о качестве».
Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин Женская обувь в отделе магазина ЦУМ, 1948 годИзучая дореволюционное производство обуви, где сочетались передовые механизмы и кустарное мастерство, Терехова выделяет анатомическую проблему: обувь не всегда соответствовала ноге клиента. «Петербургский краевед Петр Столпянский полагал, что фабрикант может делать обувь только на нормальную ногу, а таких крайне мало», — пишет автор. По её мнению, Столпянский был отчасти прав: кустари обслуживали обе группы покупателей — как самых малообеспеченных, так и самых требовательных и обеспеченных, отвергающих фабричную обувь из соображений моды, комфорта и статуса.
Центральная тема «Очерков...» — статусность, то есть семантическая насыщенность обуви, выявленная последовательно в бытовых и литературных примерах социологического характера. Мария Терехова приводит свидетельства из литературы, например, рассказы Чехова, где негативных персонажей часто изображают в калошах, а также примеры из кинематографа. Среди них фильм Якова Протазанова «Аэлита», где пышным туфлям буржуазных женщин противопоставлены лапти и обмотки крестьянок, и картина Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной», где сельской девушке привозят как подарок городские туфли на каблуках. Такое сравнение связано с сюжетом из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», где кузнец Вакула рассчитывает на волшебные красные туфли для завоевания девушки.
По мнению исследовательницы, красные туфли героини фильма Алексея Балабанова «Груз 200» несут сакральное значение и являются самым значимым появлением женской обуви на экране советского и постсоветского кинематографа. «Лодочки вобрали в себя базовую межкультурную семантику красных туфель — опасность, своеволие, притягательность, восходящую в западном контексте к зловещей сказке Ганса Христиана Андерсена «Красные башмачки», а также специфическую советскую семантику, подчеркивающую ценность туфель и ключевой «нерв» фильма — всеобъемлющий страх и насилие». С бытовой точки зрения туфли 2000-х годов, появившиеся в фильме с действием 1984 года, являются анахронизмом, на который режиссер и художник по костюмам Надежда Васильева пошли сознательно. Терехова отмечает, что фраза «Дяденька, я туфли забыла — мамины!» понятна лишь тем, кто жил в то время и знал, что значили такие туфли для советской женщины.
Туфли из «Груза 200» своими семантическими характеристиками легко выпрыгнули из временных рамок на 20 лет назад, что породило особенное восприятие времени, о котором Терехова рассуждает в главе о советском модном дискурсе с дихотомией между официальной и повседневной модой.
В заключительных очерках автор вводит третью, альтернативную моду, возникшую в нестабильные 1990-е, дополняющую официальную и повседневную. В финальной части книги терминология становится сложнее, а концепция «темпоральности» многократно используется при анализе, например, секонд-хенда. По мнению Тереховой, российская массовая мода 1990-х находилась на стыке двух парадигм, не принадлежа целиком ни к одной из них, сочетая предметы с выдающейся советской историей и семейными преданиями с новыми, быстро изнашивающимися вещами.
Все же к концу книги Мария Терехова уменьшает научный жаргон, переходя к лирическому и сентиментальному восприятию обуви как человеческого явления: «Простая пара туфель может стать — и становится — точкой пересечения культурной истории общества, страны, мира — и личной истории частного человека. В следующий раз в прихожей посмотрите на свои любимые старые ботинки с должным уважением».