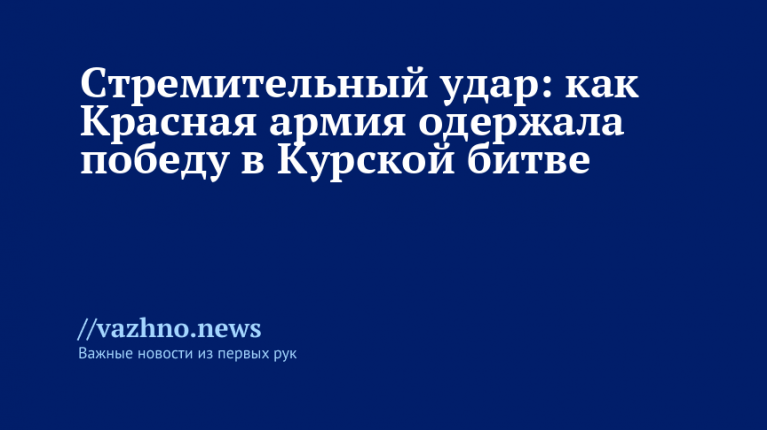23 августа отмечается дата разгрома советскими войсками немецко-фашистских сил в Курской битве — значимое событие в истории страны и Великой Отечественной войны. Как проходили эти события, рассказали «Известия».
Оборона или наступление?Весной 1943 года на фронте у Курска возник значительный выступ, угрожавший позициям немецких войск. И в Москве, и в Берлине осознавали, что исход сражений на Курской дуге имеет большое значение. Немецкое командование ставило цель окружить и уничтожить советские войска на этом выступе, который гитлеровские стратеги называли «балконом». Перед крупными боями на фронтах сохранялся хрупкий баланс сил. Немцы не могли взять реванш за поражение под Сталинградом, а Красная армия еще не имела возможности поддерживать темп разрушения противника, установленный в районе Волги.
В Германии жертвами поражения в Сталинградской битве называли союзников — итальянцев, венгров и румын, которых считали неспособными выдержать удар Красной армии. Поэтому наступать в Курской битве должны были только «настоящие арийцы». В тылу действовала лишь одна венгерская дивизия. Тем не менее, в немецких частях служили солдаты, набранные во Франции и Польше, однако они считались немецкими подразделениями.
Фото: Global Look Press/Scherl Немецкие военнослужащие в ожидании наступления. Начало июля 1943 годаКомандование группой армий «Юг» осуществлял талантливый фельдмаршал Эрих фон Манштейн. За северное направление отвечал генерал Вальтер Модель, любимец Гитлера. Немцы делали ставку на новое техническое оснащение. Для наступления на Курский выступ были подготовлены современные образцы техники: танки «Пантера» и «Тигр», поступившие в войска незадолго до битвы, нивелировали прежнее превосходство Красной армии в бронетехнике. Самоходная артиллерийская установка «Фердинанд» представляла собой техническое чудо, однако производство таких машин в промышленных масштабах было ограничено, хотя около сотни «Фердинандов» прибыли на фронт.
В Генштабе Красной армии тщательно продумывали детали операции. Генерал армии Николай Ватутин, командующий Воронежским фронтом, выступал за наступление с позиций Курска на немецкую группировку «Юг». Немецкое командование также оценивало борьбу за Курский выступ как ключевую для всей войны. Впервые в ходе Великой Отечественной обе стороны проявили осторожность при планировании стратегической операции. Они не спешили, рассматривая различные варианты наступательных и оборонительных действий. Причиной стали значительные потери и у советских, и у немецких войск. Кроме того, в Москве и Берлине понимали: сражение на Курской дуге окажет влияние не только на кампанию 1943 года, но и на всю войну в целом. Константин Рокоссовский выступал против наступления, считая, что Красная армия не обладает достаточными силами для окружения и уничтожения немецкой группировки. Его мнение было учтено, и принято решение вести активную оборону, заманить врага и затем перейти в наступление. Для этого в Генштабе аккумулировали силы. Важное значение имела разведка, которая заранее донесла в Москву информацию о планах наступления вермахта.
Данные поступали как от советских разведчиков, так и от британского агента, передавшего сведения о наступательных планах немцев. «В ночь на 5 июля в зоне действий 13-й и 48-й армий были захвачены немецкие саперы, разминировавшие минные поля. Они показали, что наступление назначено на три часа утра, а немецкие войска уже заняли исходные позиции», — вспоминал командующий Центральным фронтом Константин Рокоссовский.
В первые часы немецкого наступления Красная армия ответила мощной артиллерийской контратакой по всему фронту и авиационными ударами. Для немецкой стороны это означало срыв тщательно спланированной операции, но такое начало не гарантировало успех советским защитникам, готовым всеми силами отстоять каждый клочок земли.
«Есть броня сильней металла»На южном фасе Курского выступа 5-я гвардейская армия Алексея Жадова и 5-я гвардейская танковая армия Павла Ротмистрова остановили наступление танков Вермахта в битве под Прохоровкой, кульминация которой пришлась на 12 июля.
Лето 1943 года выделялось техническим превосходством немецкой стороны. Советским танкистам приходилось идти на сближение под огнем, чтобы расстрелять противника с близкого расстояния с фронтального огня, в то время как немцы могли вести огонь с большей дальности.
Символом танкового сражения под Прохоровкой стал таран, выполненный водителем-механиком старшим сержантом Александром Николаевым. Немецкие «Тигры» превосходили советские Т-34 по броневой защите, и многие бойцы считали их непроницаемыми. Нужен был пример, чтобы разрушить это мнение. Николаев пошел на таран, не боясь огня, смело направляя свой танк на врага. Немецкий «Тигр» сначала откатился, промахнулся выстрелом и попытался уйти, но пылающий на полной скорости советский танк въехал в него. Земля содрогнулась от взрыва. Другие бойцы последовали примеру Николаева, и в боях под Прохоровкой было совершено около двадцати танковых таранов, которые ценой жизни остановили наступление противника.
«Стоял такой грохот, что давило перепонки, кровь текла из ушей — непрерывный рев моторов, лязганье металла, взрывы снарядов, дикий скрежет разрываемого железа. При выстрелах в упор башни сворачивало, орудия скручивались, броня трескалась, танки взрывались», — вспоминал участник сражения, Герой Советского Союза Григорий Пэнэжко.
Не менее значимым был бой в воздухе: советские бомбардировщики, завоевавшие превосходство над «панцирваффе», стали грозой для немецкой авиации. Победа не далась легко. Переход Красной армии от обороны к атаке сопровождался сильными авиаударами немцев по транспортным путям и войскам. Требовались стойкость и несгибаемая воля, чтобы выдержать этот удар и продолжить наступление. Среди передовых частей Воронежского фронта выделялась 1-я танковая армия под командованием генерал-лейтенанта Михаила Катукова. Курская дуга стала воронкой, втягивающей армии и дивизии. Сложность задачи отражалась в невероятном напряжении противостояния, поскольку армии-победительницы сумели без пауз, сохраняя ритм — пусть с большими потерями — перейти от обороны к массовому наступлению.
Гитлеровцы наступали 11 дней, но со второй половины июля инициатива перешла в руки Красной армии. К началу августа давление усилилось. По всей длине Курской дуги советские войска провели наступательные операции. 17 августа началась битва за Харьков. Войска Юго-Западного фронта Николая Ватутина и Воронежского фронта Филипа Голикова под кодовым названием «Звезда» выбивали немцев из промышленных районов харьковской агломерации. Курская битва завершилась 23 августа, когда красное знамя Победы взмыло над Харьковом — танковый корпус СС, который занимал город, в страхе отступил. Москва отпраздновала победу 224 залпами салюта.
Путь на Донбасс и БерлинЭто сражение, не имеющее аналогов в мировой истории по количеству боевой техники, закончилось безоговорочной победой Красной армии на всех направлениях. Особенно болезненной для немцев стала утрата семи элитных танковых дивизий. Они потеряли веру в непобедимость своей военной машины. Гитлеровцы были отброшены на запад на 140–150 километров. Главное — были освобождены Орел, Белгород и Харьков, открыв ворота для освобождения промышленного центра Донбасса с его крупными транспортными узлами. Самая напряжённая битва произошла за Харьков, ставший в 1941 году ареной длительных и кровавых сражений.
После этой грандиозной победы вермахт полностью утратил инициативу в войне — ему больше не удавались крупные наступательные операции. Германия перешла к обороне, и удерживать господство над значительной советской территорией становилось всё труднее. Предстояли тяжелые бои на Днепре, где немцы продолжали упорно сопротивляться. Иногда им удавалось побеждать, но сил для дальнейшей экспансии уже не хватало. Это и был решающий перелом, который почувствовали все участники фронтов — от маршала до рядового бойца. От Курска, Белгорода и Харькова бойцы проложили путь прямо до Берлина.
По мнению маршала Георгия Жукова, на Курской дуге «были не только уничтожены отборные и самые сильные немецкие группировки, но безвозвратно подорвана вера в гитлеровскую фашистскую верхушку и способность Германии сопротивляться всё растущему могуществу Советского Союза».
«Мы клянемся у памятника...»В августе 1944 года, несмотря на то, что до Победы оставались еще тяжелые сражения на фронтах от Балтики до Балкан, в лесах близ поселка Поныри началось сооружение памятника героям, стоявшим на пути врага. На этом участке фашисты потеряли 110 танков, более 30 из них взорвались на минах. Саперы, создавшие минные ловушки для немцев, сражались, сражаясь с танками, — красноармеец Иван Джим бесстрашно бросился под гусеницы противника с миной, а гвардии сержант Николай Зыгин вместе с двумя бойцами подорвали пять вражеских машин, закрывая проход.
Вечный огонь у памятника зажег Герой Советского Союза генерал-лейтенант Михаил Еншин — командир 307-й стрелковой дивизии, героически сражавшейся на Курской дуге. Надпись на граните гласит: «Саперы героически держали оборону, стояли насмерть и не пропустили врага». Важно, что даже во время войны страна помнила подвиг защитников. «Не успели отгреметь бои на священной земле, как народ воздвигает памятники в честь героев, истинных сынов Русской земли! Мы клянемся у памятника трудиться не покладая рук, помогая фронту», — эти слова прозвучали при открытии монумента и продолжают отражать отношение к защитникам Понырей, Прохоровки, Курска и Харькова. В их честь были даны первые салюты Великой Отечественной — 5 августа после освобождения Орла и Белгорода.
Отметим, что союзники из Антигитлеровской коалиции восприняли победу Красной армии в Курской битве менее восторженно, чем капитуляцию Паулюса в Сталинграде. Это связано с её огромным международным значением. В августе 1943 года Япония и Турция окончательно отказались вступать в войну на стороне Германии, а Швеция прекратила торговлю с нацистской Германией. В Лондоне и Вашингтоне уже испытывали опасения успешных действий Советского Союза. Западные СМИ пытались объяснить успехи Красной армии под Курском десантной операцией союзников на Сицилии, что выглядит бессмысленно, но такая точка зрения до сих пор популярна в американской и британской исторической литературе. Это лишь подчеркивает масштаб и значимость победы.
Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»