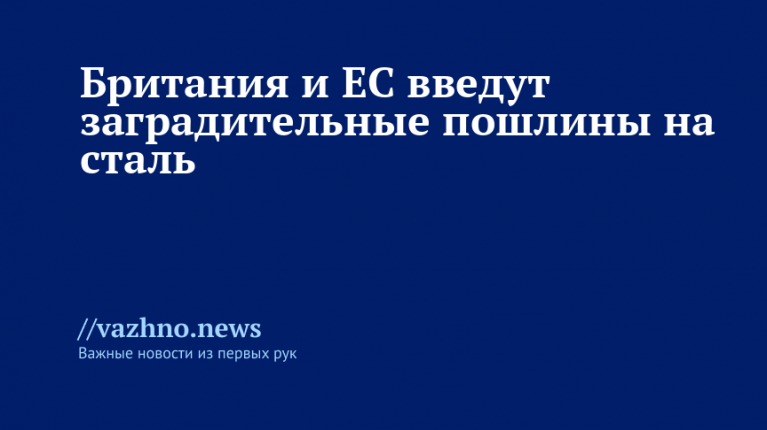Британия стремится создать «западный альянс» совместно с Евросоюзом, чтобы ограничить господство Китая на мировом рынке стали. Эту идею поддерживают и США. Сталелитейная отрасль изначально относится к числу наиболее защищенных пошлинами секторов в мире, однако текущее противостояние может поднять ситуацию на новый уровень. В материале «Известий» объясняют, почему сталь стала источником нового конфликта между крупнейшими экономиками мира.
Поиск альтернативЕще в 2000-е годы Китай закрепился в статусе глобального лидера по выплавке стали и с тех пор лишь совершенствует свое преимущество. По оценкам аналитиков, в 2025 году экспорт китайской стали может составить от 115 до 120 млн т. Для сравнения: это превышает годовой выпуск стали в любой другой стране, кроме Индии. Причина такого рыночного импульса — внутренний дисбаланс: потребление стали в Китае достигло пика в 2020 году, а последующее обрушение крупного рынка недвижимости лишило производителей основного источника спроса.
Оказавшись с гигантскими избыточными мощностями, китайские предприятия вынуждены искать рынки сбыта за пределами страны. В этом они показали высокую адаптивность. Китай целенаправленно перенаправляет экспортные потоки: развивающиеся рынки Ближнего Востока, Центральной Азии и Северной Африки превратились в новые направления роста. За первые семь месяцев года поставки в Саудовскую Аравию увеличились на 24%, в Малайзию — на 14%, в Таиланд — на 13%. Одновременно экспорт в ключевые торговые страны, такие как Вьетнам и Южная Корея, которые также ввели антидемпинговые меры, за первые семь месяцев сократился на 20% и 10% соответственно, сообщает в конце августа поддерживаемая государством Китайская ассоциация железа и стали (CISA).
Чтобы миновать высокие пошлины на готовую продукцию, китайские фирмы существенно увеличили экспорт полуфабрикатов, например стальной заготовки. Поставки заготовок выросли втрое, арматуры — на 77%. В то же время экспорт более сложных видов проката, в частности горячекатаного рулона, упал на 23%. Такая стратегия имеет и обратную сторону: хотя объемы рекордные, экспорт в долларовом выражении даже сократился.
Мотивация производителей проста: «Лучше продать как можно больше сейчас». Но страх упустить момент лишь усугубляет ситуацию, провоцируя протекционистскую реакцию. Большинство стран, выпускающих значительные объемы стали, включая Россию, применяют различные меры поддержки своих производителей, в том числе пошлины.
Альянс ЗападаЗападные экономики оказались в сложной ситуации. Мало кто верит, что введенные США пошлины справятся с китайским давлением в одиночку. Инициатором выступила Великобритания, оказавшаяся после Brexit в уязвимом положении: около половины ее сталевого экспорта направляется в ЕС, и возможные новые 50-процентные пошлины со стороны Брюсселя могут повлечь за собой серьезные убытки.
Высокопоставленные чиновники ЕС заявляют, что у блока «нет другого выбора», кроме как защищать свою промышленность, предупреждая, что Европа «в глубокой беде из-за этой проблемы избыточных мощностей». В то же время Евросоюз оставил открытой возможность переговоров с Лондоном.
Британская сторона предлагает путь — создать «западный стальной альянс» вместе с ЕС и, возможно, США. Идея, «довольно долго» обсуждавшаяся, теперь в Брюсселе выглядит «более привлекательной». Целями такого альянса могут стать согласование тарифной политики против китайской стали, предоставление преференций для торговли внутри объединения, что создаст защищенное пространство рынка, и совместное давление на Китай для решения проблемы избыточных мощностей.
В процесс включились и США: торговый представитель Джеймисон Грир призвал к тесной координации, заметив, что «нынешние международные торговые правила неадекватны».
Некоторые очертания будущего альянса уже намечаются: ЕС и Британия договорились унифицировать свои будущие углеродные налоги на импорт, что станет дополнительным нетарифным барьером для «грязной» стали (в первую очередь китайского происхождения).
Распад системыТо, что происходит, — логичное следствие продолжающейся фрагментации мира: сферы влияния формируются не только в политике, но и в экономике. Часто они совпадают, хотя не всегда. Сейчас мы наблюдаем раскол мирового рынка стали. Запад формирует «закрытый клуб» с высокими барьерами. Китай в ответ активнее осваивает рынки Глобального Юга, где торговые ограничения пока мягче. Это ведет к становлению параллельных, менее интегрированных рыночных экосистем.
Эскалация торговых войн в отрасли продолжается и началась задолго до второго президентского срока Дональда Трампа. В 2024 году против китайской стали было введено около 54 торговых барьеров — больше, чем за весь период 2019–2023 годов. Мексика уже озвучила план по повышению тарифов. К тому же рекордный экспорт Китая в этом году гарантирует новую волну ограничений в следующем.
Следует отметить, что даже внутри Китая рост экспорта полуфабрикатов вызывает беспокойство у властей. Пекин стремится, чтобы промышленность переходила к продукции с более высокой добавленной стоимостью, и рассматривает ужесточение экспортных налогов, чтобы сократить вывоз низкокачественного металла. Как заявил генеральный директор Baosteel Баоцзюнь Лю, компания «должна экспортировать», но делать это становится все сложнее.
Попытки Запада сдержать растущее расширение китайских сталелитейных компаний — это не просто очередная торговая ссора, которые возникали в последние 20 лет. Это признак более глубокой деглобализации и регионализации экономики. Создание «западного альянса» — защитная реакция на объективное экономическое преимущество китайской индустрии: более низкие затраты на рабочую силу, менее жесткое регулирование (включая экологическое), оптимизированные цепочки поставок и эффект «экономики масштаба». В ответ Китай будет все глубже выходить на рынки развивающихся стран, укрепляя с ними экономические и политические связи.
Если западная инициатива реализуется, а в этом есть сомнения ввиду растущих противоречий между самими западными державами, последствия могут быть значительными. Мир рискует превратиться в набор конкурирующих и слабо связанных «стальных сфер влияния», где торговые потоки будут определяться скорее политической целесообразностью и протекционистскими барьерами, чем экономической эффективностью.