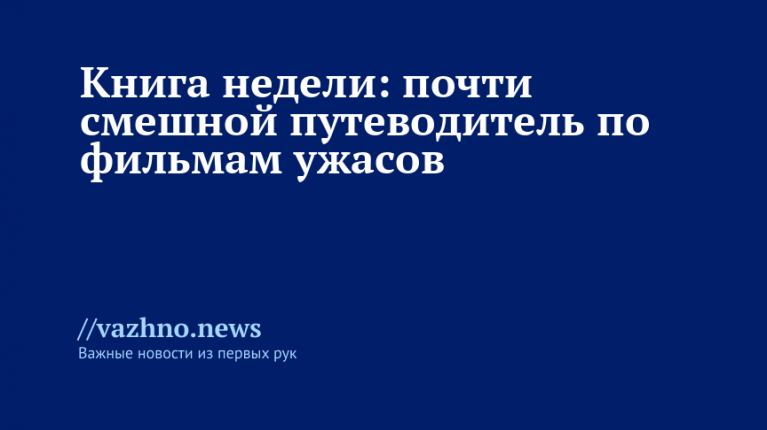Кинокритик Станислав Зельвенский поведал читателям о ста самых значимых, по его мнению, фильмах ужасов в истории кино — и сделал это так, что некоторым читателям невольно хочется посмеяться. Рецензию на книгу недели специально для «Известий» подготовила критик Лидия Маслова.
Станислав Зельвенский«100 ужасов Станислава Зельвенского»СПб.: «Подписные издания»; М.: «Кинопоиск», «Яндекс Книги», 2025. — 256 с.
В своей книге, где собраны сто довольно разношерстных хоррор-фильмов (хронология выхода охватывает ровно столетие — с 1922 по 2022 год), Зельвенский в предисловии жалуется на дефект популярного формата — разнообразных списков greatest hits. Он отмечает, что, как ни старайся, в чужом глазу неизбежно видно либо отсутствие чего-то существенного, либо наличие совсем не обязательного элемента. Намерение автора — «сделать акцент на курьезном, недооцененном, незаслуженно забытом» — логично объясняет отказ от хрестоматийных включений. Так, по его словам, не имеет смысла в сотый раз тащить в сборник хичкоковское «Психо»: «В тысячный раз выкапывать труп мамы Нормана Бейтса — неспортивно и ни мне, ни другим не доставит никакого удовольствия».
Фото: Яндекс КнигиТем не менее в книге есть и кинометры из золотого фонда жанра: от «Ведьмы из Блэр» автор благополучно воздержался, а «Молчание ягнят» все же включил и отмечает, что пересматривает его раз в пару лет. При этом высокий статус картины не меняет ни объема мини-эссе, ни глубины разбора: каждому фильму уделено ровно по три абзаца — один для сюжета, второй для смысловой и стилистической квинтэссенции, третий для афористично сформулированной «морали басни», ключевой цитаты или даже парадоксального признания автора о причинах собственной симпатии к порой сомнительным фильмам. Так, о картине Пола Шрейдера Зельвенский пишет: «Никому не придет в голову назвать «Людей» хорошим фильмом, но попасть под его чары даже проще, чем устроиться на работу в новоорлеанский зоопарк».
В противоположность избитому «Молчанию», чья киноведческая судьба давно развеяна компетентными интерпретациями, особенно любопытной оказывается заметка о фильме Дэвида Прайора «Пустой человек» (2020). Она действительно порождает желание посмотреть картину, которая, по мнению Зельвенского, была пропущена и публикой, и критикой в эпоху ковидных турбуленций проката. Критик относит картину к «одним из самых оригинальных, умных и попросту страшных хорроров за много лет», допуская осторожную параллель с «Матрицей»: «Антагонист здесь, почти как в «Матрице», — не монстр, хотя он тоже есть, а воображаемый порядок вещей, философская концепция, абстракция, ставшая реальностью, «ноосфера», отравленная идеей зла».
Зельвенский выстраивает в «100 ужасах» некую внутреннюю нить, переходя от одной картины к другой не лишь по алфавиту: формально книги упорядочены буквой, но подбор соседствующих фильмов зачастую продуман не случайно. Возможно, только слишком рьяный искатель смысловых связей заметит логику рядом расположенных «Ночи демона» Жака Турнёра — где ужас запускает знание даты собственной гибели — и следующей страницы, отданной черной романтической комедии Микеле Соави «О смерти, о любви», которую Зельвенский описывает как «уникальным миксом итальянской замогильной эстетики и похоронного британского юмора». По его мнению, идея ленты — в том, что настоящая любовь возможна только на кладбище, и при описании «нежнейшего поэтического финала» критик констатирует слово «ня», которым высказывается мысль и чувство одного из героев, могильщика с задержкой в развитии.
Единственное, к чему хочется придраться в «100 ужасах», — это знакомые общетеоретические заявления о том, что жанр ужасов якобы жив на пике популярности, «потому что «окружающая действительность определенно не располагает к ромкомам»». Во-первых, когда, в сущности, она к ним располагала? Во-вторых, массовым развлечениям такая логика может работать в обратную сторону: в периоды геополитической нестабильности и апокалиптического ожидания многие предпочитают спрятаться в уюте ромкомов и добрых сказок, тогда как в застойные или душные времена людям хочется диссонансов и чего-то тревожного, чтобы не задохнуться от скуки. В тексте критика сама по себе морально-социологическая гипотеза размножается легко, но не это определяет силу его письма.
Класс настоящего кинообозревателя, по Зельвенскому, вовсе не в умении штамповать такие объяснения, а в личной оптике и способности запечатлеть её в остроумной словесной комбинации. В этом отношении у него мало равных среди русскоязычных авторов, что видно и по его скромному названию сборника — «книжице»; он отказывается от претензий на членство в клубе серьезных хоррор-фанатов и называет свое произведение лишь робкой попыткой «заглянуть, расплющив нос о стекло, в этот волшебный мир, где с чердака доносится хохот, из подвала — бряцание цепей, по стене течет кровь и никогда не видать солнечного луча».