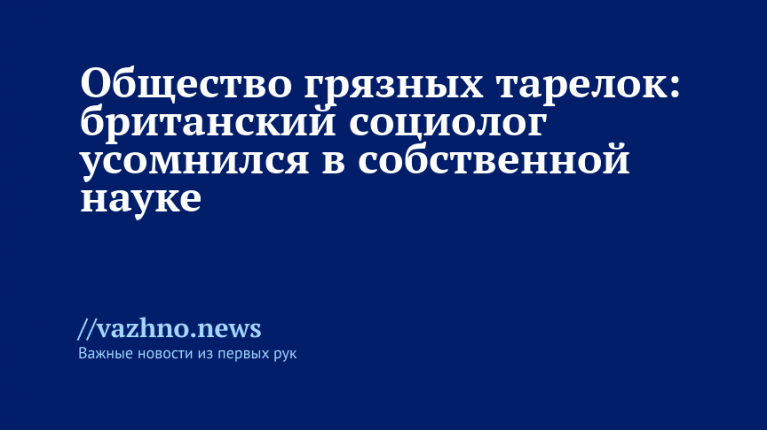За ироничным заголовком книги польско-британского социолога Станислава Андрески «Социальные науки как колдовство», изданной еще в 1972 году и остающейся современно значимой, скрывается не отрицание самой социологии, а скорее недовольство по поводу неуклюжего подхода многих исследователей к концептуальному аппарату. Критический обзор книги подготовила для «Известий» Лидия Маслова.
Станислав Андрески«Социальные науки как колдовство»Москва: Издательство Института Гайдара, 2025. — Перевод с английского Дмитрия Кралечкина. — 336 страниц.
В самой первой главе, озаглавленной резко — «Зачем гадить там, где ешь?», Андрески размышляет о грани между естественными и социальными науками, выделяя фундаментальный и практически неустранимый недостаток гуманитарных исследований: «Претенциозная, но туманная многословность, бесконечные повторения банальностей и тонко скрытая пропаганда — вот что сегодня зачастую формирует исследовательскую повестку, причем по меньшей мере 95% трудов — это переизучение уже тысячу раз обнаруженного». По признанию автора, его труд скорее исследует не «социологию знания», а «социологию незнания», где уклончивость и обман зачастую выгоднее открытой правды.
Фото: Издательство Института ГайдараОсознавая свое шаткое положение ученого, который намерен разоблачить успешных и уважаемых коллег, Андрески приводит пример из другой сферы, больше литературной, чем научной: «...свободный мыслитель может чувствовать себя везучим, если он живет в таком обществе, где его хотя бы игнорируют, но не бросают в тюрьму и не называют „свиньей, которая гадит там же, где ест“, — знаменитый эпитет главы КГБ Владимира Семичастного в адрес Бориса Пастернака».
Это неожиданное, почти отдельно стоящее в книге, но искреннее выражение обиды за Пастернака демонстрирует в Андрески скорее человека поэтической натуры. Его рассуждения в основном логичны и рациональны, но ясно ощущается, что его раздражает не только меркантильность и подхалимство коллег-социологов, но намного сильнее — грубая лингвистическая бесчувственность, неумелый официальный стиль и неспособность оформить сомнительные псевдонаучные построения в привлекательный и потому убедительный текст.
Однако это всего лишь дополнительный оттенок, неявное ощущение от «Социальных наук как колдовства», которые без излишних эмоций подробно и обоснованно показывают проблемы социологических исследований на протяжении всей истории дисциплины — понятно даже для непрофессионального читателя.Основная проблема по мнению Андрески — это «склонность людей как предметов изучения реагировать на то, что о них говорят». В этом аспекте естественные науки неизбежно уступают социальным: «...представьте себе, как было бы тяжело ученому-естественнику, если бы объекты его работ начали реагировать на его высказывания, то есть если бы вещества умели прочитать или услышать записи химика и решили вырваться из сосудов и сжечь его, если им не понравится то, что они увидели на доске или в записной книжке». Андрески считает, что такая реакция со стороны объектов исследований создает три вида трудностей для развития социальных наук: сложности проверки утверждений, давление на исследователей и «широкие возможности использования лжи и скрытой пропаганды».
Персонаж беспринципного социолога-пропагандиста у Андрески — это Панглосс, герой романа Вольтера «Кандид», говорливый квиетист, считающий, что «все к лучшему в лучшем из миров». Андрески нападает на многочисленные примеры «панглоссизма» с жгучим остроумием, обнажая словесные ловкости социологов, только затемняющие истинную суть происходящего: «Какой капиталист не обрадуется новостям, что он столкнется не с кровавой революцией, а с инструментализацией контрценностей и контрнорм топии № 5 референтными группами контрэлиты?»
В книге хватает примеров подобного «шаманского заклинательства». При разборе таких случаев автор достигает порой ярких юмористических эффектов, особенно в весьма резкой главе «Дымовая завеса жаргона». Здесь он критикует такое широко распространенное в социальной науке клише, как «теория роли»: «...в кругу социологов и психологов слова „роль“ и „актор“ звучат так же часто, как ругательства среди солдат. Почему не используют „индивид“, „человек“, „деятель“, а именно „актор“?» С его критической точки зрения, «теория роли» — это высокопарные, неопределенные и чрезмерно длинные препевы давно известных фактов: в любой группе люди выполняют роли, которые иногда дополняют друг друга, а иногда конфликтуют; индивиды меняют роли или меняются ими; человек действует в разных ролях, которые могут как гармонировать, так и противоречить; группа эффективно функционирует только при согласовании ролей ее участников».
Особое удовольствие Андрески получает, критикуя «священных коров» социально-психологического поля, которые обрели почет благодаря броской терминологии и саморекламе, в том числе Зигмунда Фрейда: «Если бы он описал мышление и поведение младенца как поиски чувственных удовольствий, но не называл их сексуальными; не стал бы использовать такие термины, как „полиморфный извращенец“, и выбрал бы более сдержанные формулировки для описания склонности младенца сосать грудь матери или большой палец, а также к снятию напряжения в кишечнике и мочевом пузыре, Фрейд создал бы более убедительную теорию, которая однако была бы менее пригодна в роли суррогатной религии».
Таким образом Андрески довольно весело развенчивает многие социологические концепции, которые кажутся новаторскими лишь благодаря эзотерическому стилю подачи, призванному впечатлить, прежде всего, грантодателей. Это, однако, вовсе не означает, что социальные науки можно полностью отвергнуть как инструмент манипуляции, неспособный адекватно объяснять закономерности человеческой жизни в обществе. Как отмечает Андрески, «в сферах, где смешиваются этические и интеллектуальные мотивы, борьба между светом и тьмой будет продолжаться вечно». Но именно его книга может стать ценным подспорьем для тех, кто хочет занять в этой борьбе правильную позицию и научиться распознавать «ловких колдунов в научных одеждах» за блестящей, но пустой фразеологией.