Давид Хименес, журналист из Барселоны, который в 1998 году стал первым азиатским корреспондентом мадридского издания El Mundo и проработал в этой роли до 2014 года, в своей новой книге с теплотой вспоминает бурную молодость, наполненную журналистскими приключениями, и экзотические восточные уголки, еще не изменившиеся под влиянием западной культуры и массового туризма. Обзор издания подготовила критик Лидия Маслова специально для «Известий».
Давид Хименес «Очарование Востока: По стопам Оруэлла, Конрада, Киплинга и других великих писателей, покорённых Азией»М.: Альпина нон-фикшн, 2025. — пер. с исп. — 296 с.
В своих странствиях Хименес мысленно сопровождает знаменитых предшественников — журналистов и литераторов разного масштаба, включая таких титанов, как Редьярд Киплинг, самый молодой лауреат Нобелевской премии. Киплингу, который, по меткому выражению автора, «заблудился в восточной тьме», но именно в Лахоре, работая в газете The Civil and Military Gazette во времена Британской Индии, сформировался как писатель, посвящена третья глава из десяти. Каждая часть книги связана с определённой страной или регионом: «Сомерсет Моэм — Индокитай», «Джозеф Конрад — Борнео», «Грэм Грин — Вьетнам». Джордж Оруэлл, а точнее, тогда ещё полицейский колониальной администрации Эрик Артур Блэр, в Бирме встречает неординарных героев и набирается впечатлений для своего первого романа «Дни в Бирме».
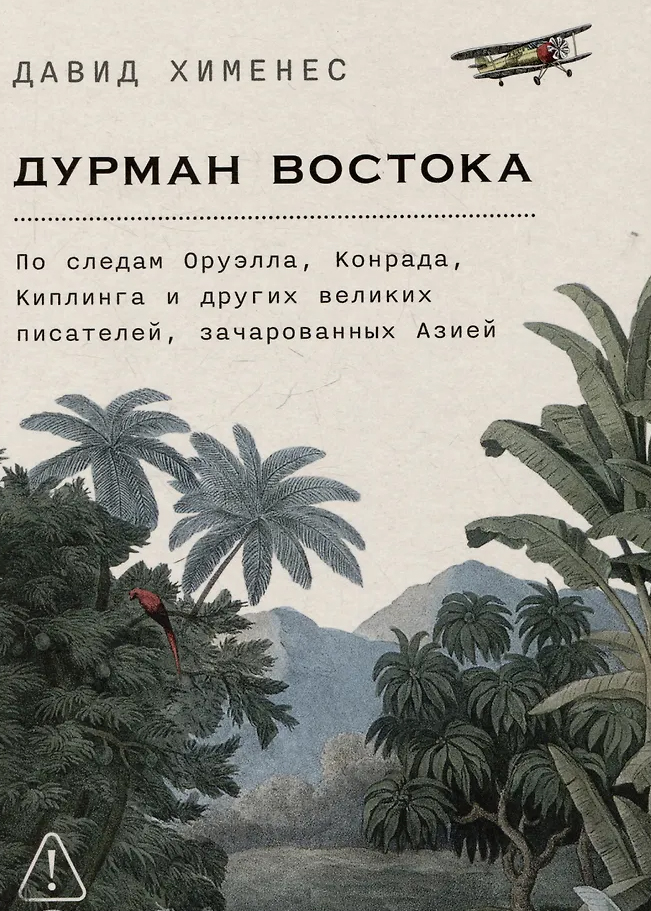
Соотечественник и кумир Хименеса — легендарный испанский журналист Ману Легинече — цитирует Имельду Маркос в заглавии своей книги «Филиппины — мой сад», где изображает страну, словно застрявшую в абсурдном спектакле.
Швейцарский писатель Николя Бувье, в будущем автор «Японских хроник», умудряется адаптироваться в послевоенном Токио и даже устраивается сторожем в дзен-буддийский храм. Итальянец Тициано Терцани, проведя в азиатских странствиях два десятка лет, в 1990-х оседает в Бангкоке и создаёт один из лучших тревелогов о Юго-Восточной Азии — «Прорицатель открыл мне», размышляя о печальном парадоксе: «...пока мы пытаемся разгадать тайны Востока, Восток ищет ответы на Западе. В итоге мы перенимаем друг у друга самое плохое».

Хотя Хименес отмечает, что «Азия по-прежнему остаётся мужским клубом» (предлагая западным женщинам куда меньше возможностей, чем мужчинам), в его подборке есть и две представительницы прекрасного пола. Француженка Александра Давид-Неэль, которой не удалась карьера оперной певицы, в 1924 году тайно проникает в Лхасу — столицу закрытого Тибетского королевства — в компании юного ламы (который был для неё не только приёмным сыном, как намекает автор). Американская военкор Марта Геллхорн, ругая комаров, мух, клопов, бесконечный дождь и ужасные общественные туалеты, колесит по Китаю в мужской компании, скромно называя своего спутника в подзаголовке книги «Пять путешествий в ад» просто «тем парнем» — а это не кто иной, как Эрнест Хемингуэй, который, по мнению Хименеса, чувствовал бы себя комфортно в любом месте, где есть выпивка и хорошие собеседники.
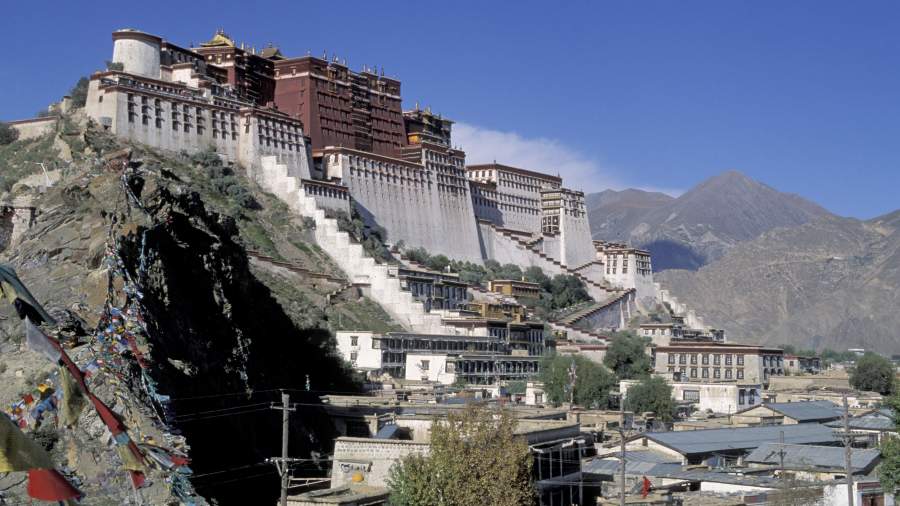
«Очарование Востока» скрепляют не только личные воспоминания автора о тех же местах, но и его размышления о социальных и политических реалиях. Разные проявления любви писателей к Востоку (иногда граничащей с одержимостью) Хименес анализирует через призму колониализма: «Сомерсет Моэм предавался колониальному гедонизму без угрызений совести. Джозеф Конрад ощущал его коррумпированную суть, но следовал его клише. Киплинг видел в империи благо. Оруэлл же был категоричен и презирал колониализм как инструмент угнетения».
Антиколониальный пафос автора порой странным образом сочетается с лёгкой ностальгией по временам, когда и Испания была могучей империей. Вспоминая испанское казино в Маниле с залами, названными в честь героев «Дон Кихота», которое «до сих пор служит предметом гордости для испанцев, тоскующих по колониальному прошлому», Хименес и себя причисляет к этим гордецам, замечая: «Колониализм обладает странным свойством: он продолжает жить в сознании и колонизаторов, и колонизированных даже спустя десятилетия после ухода последних кораблей».

Но это лишь мимолётная ирония по поводу былых имперских амбиций, засевших где-то глубоко, возможно, на подсознательном уровне. Гораздо сильнее в книге звучит раздражение из-за того, что западный прогресс неизбежно приводит за собой толпы беспечных туристов, оставляя всё меньше мест, где ценитель Востока может насладиться его подлинным очарованием: «Я не хочу возвращаться в Ангкор — мне дороже воспоминания о тех днях, когда храмы можно было осматривать в полном одиночестве, воображая, пусть ненадолго, что они принадлежат только мне. Как можно любоваться шедевром, созданным для тихого созерцания, когда вокруг шум, толкотня и очереди?».
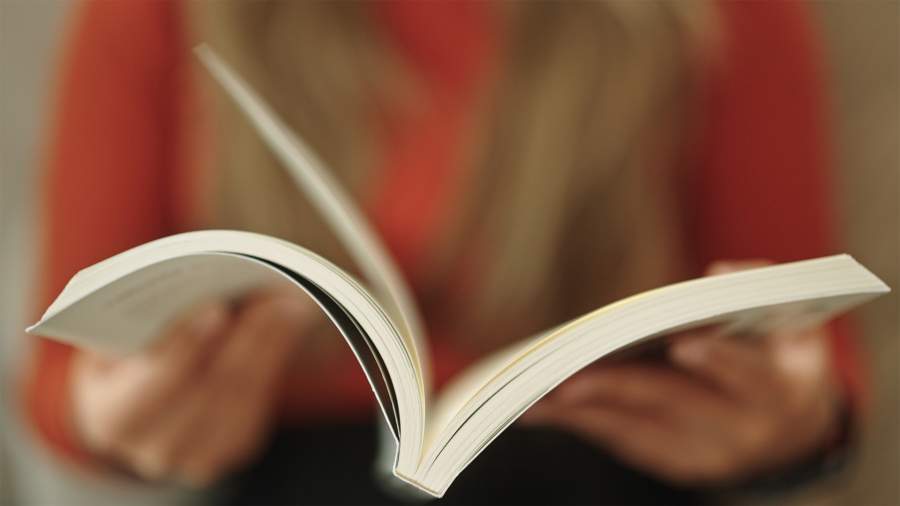
«Магическая экзотика» Востока тем притягательнее, что остаётся непостижимой для западного человека, сколько бы времени он ни провёл в Азии и как бы ни убеждал себя, что уже почти стал своим. Опытный путешественник Хименес гордится своей способностью выносить спартанские условия и бытовые неудобства, отпугивающие любителей комфорта: «Меня манят неприглядные места с их мрачными тайнами — где не знаешь, что ждёт за поворотом, где жизнь не замирает с закатом и продолжается даже в кромешной тьме. Мне надоели стерильные, удобные и предсказуемые города, где всё работает как часы и на каждом углу висят запрещающие таблички. Поэтому я выбираю Бангкок вместо Сингапура, а Манилу — вместо Дубая».

Но даже Хименес, называющий себя циничным и желчным, в финале признаётся, что так и не разгадал тайну Востока, несмотря на тридцать азиатских стран, семь лет в Гонконге и десять — в Бангкоке. Рассуждая о закрытости восточного мира, он пытается понять, почему западный человек никогда не постигнет восточную душу: «...главная ошибка — искать ответы в материальном, ведь тайна кроется в невидимом. В Азии то, что скрыто, важнее явного; то, о чём молчат, значимее сказанного. <...> Прозрачный и открытый мир Запада противостоит сокровенной замкнутости Востока».